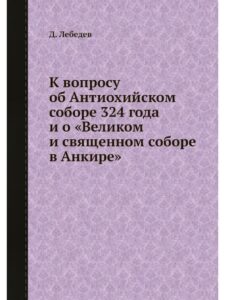
![]() К вопросу об Антиохийском соборе 324 года и о «Великом и священном соборе в Анкире»
К вопросу об Антиохийском соборе 324 года и о «Великом и священном соборе в Анкире»
Лебедев Д . А ., свящ. К вопросу об антиохийском соборе 324 г.
и о «великом и священной Соборе в Анкире» //
Богословский вестник 1916. Т. 2. No 7/8. С . 482-512 (1-я пагин.). Начало.
Разбор статьи: Разборъ статьи А . Harnack’а, Die angebliche Synode von Antio
chien iin Jahre 324/5, Zweiter Artikel, въ Sitzungsberichte der könig
lich preussischen Akademie der Wissenschaften. 1909. X I Y . Ge-
sammtsitzung 11 März. SS. 401—425 x).
1-3 Лебедев Д.А._К вопросу об Антиохийском соборе 324 г._III (БВ 1916)_1-3
* * *
Лебедев Д. А., свящ. К вопросу об Антиохийском соборе 324 г. и о «великом и священном Соборе в Анкире» // Богословский вестник 1916. Т. 2. № 7/8. С. 482–512 (1-я пагин.). (Начало.)
II.
Разбор статьи А. Harnack’а. Die angebliche Synode von Antiochien im Jahre 324/5, Zweiter Artikel, в Sitzungsberichte der koniglich preussischen Akademie der Wissenschaften. 1909. XIV. Gesainmtsitzung il Mârz. SS. 401–4251161.
Вторая статья A. Гарнака «Мнимый Антиохийский собор в 324/5 году» вызвана появлением в Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse 1908, Heft 3. SS. 305–377–VII-гo Mittheilung. Э. Швартца «К истории Афанасия», представляющего обстоятельный и прямо уничтожающий разбор первой его статейки под тем же заглавием. Тон этой второй статьи берлинского богослова уже далеко не такой самоуверенный, как в первой статье: здесь он не столько нападает, сколько обороняется. Но эта вторая статья представляет собой в сущности последнее слово науки со стороны противников подлинности открытого Швартцем документа, и Лоофс и все другие ученые, которые находили, что Гарнак вышел победителем в этой полемике, – по крайней мере до средины 1914 года, когда все совершающееся в немецком научном мире стало для нас книгой за семью печатями – не привнесли от себя ни одного самостоятельного аргу-
—483—
мента против Швартца и просто только соглашаются с Гарнаком. Поэтому, хотя сам Швартц, следуя спартанскому правилу: «бегущего не преследовать», φεύγοντα μὴ διώκειν1162, и не нашел нужным отвечать на эту статью Гарнака, разбор ее будет далеко не излишен, тем более что Гарнак тут выдвигает и другой интересный вопрос о подлинности актов Кельнского (Агриппинского) собора 346 года.
У меня разбор этой статьи написан был осенью 1910 г. Я пользовался им и в своей первой краткой статье об Антиохийском соборе 324 года, появившейся в 1911 году в Христианском Чтении, и в разборе первой статьи Гарнака на страницах Трудов Киевской Духовной Академии за 1914–1915 гг. Воспроизвожу его поэтому здесь с необходимыми сокращениями, опуская те отделы, которые уже появились в печати и заменяя их ссылками на печатные статьи, но также и с необходимыми дополнениями. Дополнения в особенности необходимы в важнейшем отделе этой статьи, посвященном Кельнскому собору 346 года, так как уже по окончании ее мне стали доступны относящиеся к этому собору статьи Дюшена1163 и особенно – Ambrosius’a Söder’a1164, у которого изданы вновь по рукописям и самые акты собора.
I.
После небольшого (в 10 строк) введения, в котором Гарнак некоторую медленность своего ответа Швартцу объясняет ожиданием, что возьмет слово кто-нибудь из других богословов (Facligenossen), и заявляет, что, раз этого не случилось, то он уже не находит более возможным молчать, чтобы не получилось фальшивое впечатление (damit kein ialscher Schein enlstehe) – берлинский профессор весьма искусно – начинает свою критику изложением хода
—484—
событий 324–5 гг., какой Швартц (SS. 370 ff. cf. 366 ff.) выводит из новых документов, – излагает его (SS. 401–403), пользуясь почти исключительно словами самого Швартца, и пытается – довольно успешно – показать несостоятельность такого изложения (SS. 403–409).
При этом знаменитый богослов, как будто, совсем забывает поставить вопрос: да насколько правильны те выводы, какие Швартц делает из открытого им документа, и не возможно ли совсем иное его понимание, при котором исчезнуть решительно все те несообразности, какие, подчас справедливо, Гарнак указывает у Швартца.
Из дальнейшего, надеюсь, будет ясно, что Гарнак оказывается правым только в тех случаях, когда сам Швартц делает из открытого им документа выводы, на которые не уполномочивает сам документ; а когда выводы Швартца не расходятся с документами, то противоречия и несообразности существуют лишь в воображении самого Гарнака. Да и взгляды самого Швартца излагаются Гарнак не всегда точно.
I.
SS. 366–372 своей статьи Швартц излагает ход и смысл событий 324–5 гг. сначала (SS. 366–370) в том виде, в каком он представляется по старым источникам, и затем уже (SS. 370–372) пытается выяснить, что новые документы не только не стоят ни в каком противоречии с этим изложением, но и разъясняют некоторые темные вопросы, например, ту роль, какую играл на Никейском соборе Евсевий кесарийский, далее строгость императора в отношении к Арию, стоящую в видимом противоречии с его посланием к Александру и Арию, и, наконец, почему унижение Евсевия Никомидийского было усилено еще тем, что совершилось в его собственной провинции.
Швартца, как светского ученого, интересует, конечно, главным образом, политика Константина Великого, да и в самом арианском споре он видит прежде всего борьбу сначала александрийского епископа с его пресвитерами, отстаивавшими свою относительную независимость от епи-
—485—
скопа, а затем борьбу за власть между влиятельными епископами.
По старым источникам, Константин Великий бесспорно был на стороне Ария. Это доказывает послание Константина к Александру и Арию. «По наружности» – говорит Швартц (S. 369) – «император ставил себя» в нем «выше партий, на деле он поддерживал Ария». Это доказывает ясно тот факт, что в этом письме император ставит Александра на одну ногу с его пресвитером и не говорит ни слова о его правах над ним, как епископа над пресвитером. А тот факт, что собор созван был в Никею, в город, находившийся в церковной провинции Евсевия Никомидийского (в Вифинии), и он именно приветствовал императора на соборе речью, доказывал, по-видимому, что на стороне Ария Константин оставался и при самом открытии этого собора. «Но исход» собора «означал нечто совсем иное, чем победу» Евсевия и Ария. Арианские формулы были осуждены; но не было принято и Credo Александра Александрийского, а введено было нечто совсем новое для востока – «западное единство существа Отца и Сына». Ясно, что советником Константина был Осий Кордубский.
По новым документам оказывается, что Константин Великий сначала думал собрать не вселенский собор, а по-видимому, только собор епископов азиатских провинций (в спорном указе Константин ведь говорит, что на собор идут и епископы Италии и прочих частей Европы, (Shwartz. VII, 340), и созвал его в Анкиру, епископскую кафедру Маркелла. Какой план он имел при этом в виду, «нельзя угадать»1165. «Но приверженцы Александра из избрания Анкиры, как места собора, заключили, что император решит» спор «в их пользу», и по инициативе некоторых «горячих голов» в Сирии и соседних с ней провинциях состоялся собор в Антиохии, который шел прямо вразрез с намерением Константина1166.
Император не замедлил высказать свое неодобрение этому
—486—
шагу восточных епископов1167: он перенес собор в Никею, показывая этим, что Евсевий Никомидийский еще жив, и император умеет отстранить возможность всякого предсказания о своей милости или немилости. Вместе с этим собор превращается во вселенский, и император хочет присутствовать на нем лично.
На соборе император вмешивается с самого начала и сам лично реабилитирует Евсевия cum sociis. Но император был далек от того, чтобы покровительствовать и Арию: он имел слишком мало силы позади себя, как показал это антиохийский собор, и, кроме того, Осий мог разъяснить императору, как опасно подействовало бы решение в пользу формул Ария на западе. Поэтому он пожертвовал пресвитером. Но император не желал также содействовать и блестящему триумфу александрийского патриарха, потому что тогда он одобрил бы, в сущности, антиохийский собор, перечеркнувший его планы. Ничего не оставалось ему делать, как провести на соборе западные формулы. «Расчетливый деспот» конечно хорошо понимал, что эти формулы будут крайне неприятны восточным епископам; но он знал также, что церковь, которой он дал возможность участвовать в славе его победы, не может отказать ему в исполнении его желания и не принять в свое Credo слово, которое можно будет потом перетолковывать как угодно. И ему удалось потом вернуть в церковь не только Евсевия Никомидийского, но и самого Ария. И когда Афанасий решительно отказался принять в общение ненавистного пресвитера, император повел борьбу уже прямо с александрийским епископом.
Гарнак не делает никакого различия между тем изложением хода событий 324/5 г., какое Швартц дает на основании одних старых источников, и тем, какое он дает, привлекая к делу новые документы, и, выхватывая отдельные пункты из того и другого изложения, старается показать, что они находятся во взаимном противоречии.
Все изложение хода событий начала арианского спора у Швартца Гарнак разбивает на 8 пунктов: а–h; а) отношение императора к Александру и Арию по письму его
—487—
к ним; b) назначение собора в Анкиру; с) вывод отсюда приверженцев Александра; d) собор в Антиохии; е) перенесение великого собора в Никею; f) положение на соборе Евсевия кесарийского; g) отношение императора на соборе к Арию и h) к александрийскому епископу: внесение западного термина. Пункты b–g заимствованы из второго изложения хода событий у Швартца (по новым документам), пункт а) – из первого изложения, пункт h) – общий тому и другому изложению. Гарнак дает, таким образом, изложение взглядов Швартца хотя и верное в существенном, но не вполне точное.
Гарнак находит противоречие прежде всего между пунктами а и b. «Если император хотел поддерживать Ария, то как он мог созвать проектируемый собор в Анкиру, кафедру лютейшего противника Ария?». «Что он имел в виду, невозможно угадать», возражает Швартц. Но этого недостаточно, по мнению Гарнака, «так как тут лежит противоречие».
Но мне кажется, что это противоречие не особенно трудно решить и с точки зрения Швартца. Швартц считает Константина Великого политиком настолько тонким и искусным, что он намеренно никому не давал возможности угадать, куда именно клонятся его симпатии и антипатии. Поэтому, высказавшись в письма к Александру и Арию довольно ясно в пользу последнего, Константин мог даже намеренно назначить собор в Анкиру, чтобы и Арий не счел его окончательно своим сторонником, и Александр мог бы не терять надежды, что и император будет на его стороне, и его дело восторжествует на соборе1168.
Если же отрешиться от оригинального взгляда Швартца на политику Константина, то назначение собора в Анкиру уже решительно не стоит ни в каком противоречии с письмом Константина к Александру и Арию. Письмо это Константин писал, вероятно, под влиянием одного из Евсевиев, и может быть, даже и сам Осий Кордубский в то время не представлял ясно, в чем состоял предмет спора между Александром и Арием и допускал возможность ошибки или увлечения и со стороны самого Алексан-
—488—
дрийского епископа. Но в Александрии Осий убедился в безусловной правоте Св. Александра и в опасности заблуждения Ария и, возвратившись в Никомидию, повлиял в этом смысле и на Константина. Как решительный противник Ария Маркелл был, конечно, хорошо известен Осию, и вероятно под его влиянием император назначил сначала местом собора Анкиру1169.
А если так, то и с не стоит ни в каком противоречии, ни с а, ни с b: из факта назначения собора в Анкиру приверженцы Св. Александра Александрийского, т. е. огромное большинство восточных епископов – правых оригенистов – сделали тот совершенно правильный вывод, что император на их стороне.
d по Гарнаку стоит в противоречии с с. В созыве собора в Антиохии накануне назначенного великого собора в Анкире он видит шаг не только «смелый, чтобы не сказать бесстыдный», как выражался Швартц, но даже «совершенно безумный и в высшей степени опасный». «Император только что прибыл на восток, он дает милости церкви, он сам созывает собор, и выбор места собора показывает, что он враждебно настроен против ариан, и вот не ариане в их крайней нужде, in der letzten Not, а их противники, которые могут предполагать благосклонность к себе императора», оказываются «настолько бесстыдными, что прежде собирают импровизированный собор, чтобы отнять у императора ветер от парусов и самим делать церковную политику. Пусть понимает это, кто может! И к этой невероятности еще та неясность, что антиохийский собор созван был даже и не для уложения великого спора, а по дисциплинарным вопросам, но с самого начала меняет» свою «программу».
Признаюсь, я в поступке восточных епископов, собравшихся уже по назначении великого анкирского собора на поместный, хотя и довольно многочисленный, собор в Антиохию, решительно не способен видеть ничего не только опасного, безумного или бесстыдного, но и просто только смелого. И думаю, и самим заседавшим в Антиохии епи-
—489—
скопам и на мысль не приходило, что, собравшись на этот собор, они идут в разрезе с желанием императора Константина Великого – Ликиний запретил восточным епископам собираться на соборы. Но в атом запрещении выразилась его ненависть к христианам: он был их гонителем. С падением Ликиния и с воцарением первого христианского императора Константина Великий само по себе потеряло всякую силу и это запрещение, и епископы получили полную возможность собираться на соборы, когда и где им угодно. И, разумеется, в первое время после падения Ликиния они должны были собираться на соборы чаще, чем до гонения Ликиния, и чем впоследствии, так как за время гонения вопросов церковных накопилось не мало; и сами отцы Антиохийского собора на запрещение Ликиния собираться на соборы и указывают прямо, как на один из поводов к созыву этого собора.
И понятно само собой, что собор, состоявшийся вскоре по прекращении гонения Ликиния, необходимо должен был заняться вопросами церковной дисциплины. Но, с другой стороны, было бы странно, если бы собор епископов востока, созванный хотя бы и по дисциплинарным вопросам, не отозвался так или иначе на волновавший тогда всю церковь вопрос об учении Ария. И это после того, как сторонники Ария собирались на соборы и в Вифинии, и в Палестине, и последнему собору удалось даже добиться возвращения ариан в Александрию, без согласия на это Александра Александрийского!
Но, по моему мнению, даже и тот беспорядок, ἀταξία, и то презрение церковного закона и канонов людьми «мирскими», или же – вероятно правильнее – некоторыми новаторами, ὑπ’ ἐνίων νεωτεριστῶν1170, о которых говорит собор в начале послания, не стоят вне всякой связи с арианским спором. Предшественником Св. Евстафия антиохийского, имя которого занимает 2-е место в наличном тексте (переводе) послания, а в его оригинале может быть занимало даже 1-е место, и который был, вероятно, инициатором и истинным вождем этого собора, на антиохийской кафедре был Павлин, бывший епископ Тирский, друг
—490—
обоих Евсевиев и один из виднейших покровителей Ария1171. По всей вероятности, он в свое недолгое правление в Антиохии принял известные меры в пользу Ария и его друзей, принял их, вероятно, в церковное общение, может быть допустил к участию в богослужении в Антиохии, а может быть даже лишил должностей некоторых из тех клириков, которые были решительными противниками арианского учения1172. В виду этого Антиохийский собор 324 года, приступая прямо к вопросу об Арии и его последователях, вовсе не менял своей программы, а решал прежде всего тот именно вопрос, какой и нужно было решить тогда в Антиохии, чтобы уничтожить следы правления Павлина1173.
Ничего нет удивительного и в том, что собор в Антиохии состоялся накануне великого собора в Анкире. Одной благосклонности императора, выразившейся в назначении собора именно в Анкиру, было далеко недостаточно, чтобы поселить в епископах, сторонниках Св. Александра Александрийского, уверенность, что истина восторжествует на соборе, и учение Ария будет отвергнуто. Св.
—491—
Евстафию и его единомышленникам было, конечно, хорошо известно, что Арий имеет очень влиятельных покровителей (оба Евсевия, Феогний, Минофант), и они могли повести на соборе дело таким образом, что большинство епископов выскажется в пользу Ария, или же дело закончится принятием какого-либо неопределенного изложения веры, под которым подпишутся и Арий со своими сподвижниками, и их покровители.
Сделать это было бы тем легче, что большинство епископов были, конечно, богословами довольно плохими, и легко могло случиться, что, когда на великом соборе дело дойдет до голосования по поводу вероизложения, представленного одним из друзей Ария и составленного в неопределенных выражениях, то собор, т. е. большинство членов его, найдет это вероизложение вполне православным. И, разумеется, оба Евсевия на соборах Вифинском и Палестинском сделали все, что могли, для Ария, постарались привлечь на его сторону возможно большее число епископов. К этой сплоченной группе лукианистов и левых оригенистов на соборе очень легко могли примкнуть и многие из числа нерешительных или мало образованных епископов Сирии и других тяготевших к Антиохии провинций, тем более что и самую кафедру столицы востока недавно занимал левый оригенист Павлин. На верийской кафедре Евстафий не имел возможности создать достаточного противовеса влиянию Павлина. Но было бы непонятно, если бы он, заняв – вероятно осенью 324 года – кафедру великой Антиохии, накануне великого собора в Анкире, долженствовавшего решить поднятый в Александрии догматический вопрос, стал бы спокойно выжидать, какой оборот примет вопрос об Арии на этом соборе, и не принял бы со своей стороны никаких мер к тому, чтобы по возможности уменьшить количество сторонников Ария и увеличить число его противников. И исход созванного им в Антиохии собора доказывает, что его старания в этом отношении оказались далеко не безуспешными. По меньшей мере двое (Григорий Виритский и Аетий Лиддский), или и пятеро (еще, может быть, Македоний Мопсуестийский, Таркондимант Эгейский и Алфий Апамийский) из числа сторонников Ария перешли на этом соборе в число его противников.
—492—
Нельзя было обойтись на соборе и без изложения веры. Явиться на великий собор в Анкиру без такого изложения для восточных сторонников Св. Александра Александрийского, предвидимых Св. Евстафием, значило бы тоже, что для вождей современных политических партий выступить в парламенте, не имея определенной политической программы. Отцы Антиохийского собора должны были выяснить сами себе, что именно они должны защищать на великом соборе, и что для них неприемлемо в учении Ария.
Замечания Гарнака по поводу е (S. 404) в существенном можно признать справедливыми. По Швартцу «император, как дипломат будто, бы рассматривает смелый собор антиохийский, как воюющую силу (wie eine krieglührende Маcht, – Harnack. 404): он предпринимает противный ход (ein Gegenzug). Он переносит задуманный собор в Никею и идет таким образом на встречу Евсевию Никомидийскому, виднейшему покровителю Ария. Очевидно, он имеет в виду доставить победу Арию. Вместе с этим ему приходит в голову мысль о Вселенском соборе, который один только мог дать надлежащий авторитет против Антиохийского». «Возможно» – говорит Гарнак – «что Константин так поступал, но, насколько мы его знаем, невероятно. И какое странное – положение! (Und wie eine selftsame, kontorte Lage!). Великий собор, самовольно собравшийся в то время, как император уже созвал собор, смело предпринимает то самое, что, как известно было собору, и император должен был сделать на созываемом соборе. Императору это могло быть приятно – тогда собор в Анкире в существе дела оказывался уже излишним – или же он мог дать почувствовать свой гнев. Вместо того он переменяет свое мнение, берет назад назначение собора в Анкиру, переходит, назначая его в Никею, на сторону Евсевия Никомидийского и в своей слабости ищет себе теперь помощи с запада, – возможно все это, но невероятно».
На все это Швартц – со своей точки зрения – конечно не затруднился бы дать ответ. По его взгляду Константин Великий, как искусный политик, не хотел дать полного торжества ни одной из спорящих сторон. Поэтому, как только он узнает об Антиохийском соборе, знаменовавшем тор-
—493—
жество Св. Александра на востоке, он переносит собор в Никею. Но и Евсевию с Феогнием он не хочет дать полного торжества и призывает поэтому на собор западных епископов. – Вопрос только в том, был ли Константин Великий действительно таким искусным, коварным политиком в религиозных вопросах?
По моему мнению, ни старые, ни новые документы из истории начала арианского спора не оправдывают этого оригинального взгляда Швартца на политику Константина, и ход событий после Антиохийского собора 324 года представляется мне совсем в ином свете, чем Швартцу. Приглашая на великий собор западных епископов, Константин Великий шел не вразрез, а навстречу желаниям отцов Антиохийского собора и самого Александра Александрийского. Ведь сами же отцы Антиохийского собора, по примеру. Александра Александрийского, обратились с особыми посланиями и к Сильвестру, епископу Римскому, и к Александру Фессалоникийскому. Как отозвались на эти послания эти епископы апостольских кафедр запада, мы не имеем сведений. Но на Никейском соборе мы встречаем в числе сторонников Св. Александра Александрийского и представителей Римского епископа пресвитеров Витона и Викентия, и самого Александра Фессалоникийского. И нет ничего невозможного в том предположении, что в ответ на послания Св. Александра и Антиохийского собора сами эти выдающиеся епископы запада выразили каким-нибудь образом желание принять участие в соборно-вселенском решении спорного догматического вопроса. Мысль пригласить на собор западных епископов мог подать Константину и Осий Кордубский, может быть, сам присутствовавший на Антиохийском соборе. Но западных епископов неудобно было приглашать в далекую от границы востока и запада Анкиру, и потому с превращением восточного великого собора во вселенский перемена места его стала необходимостью. О выбор Никеи, как места Вселенского собора, ср. Виз. Bp. т. XX, Отд. I, стр. 167 (Павлин и Зинон, стр. 107), прим. 157, и Труды Имп. Киевск. Дух. Акад. 1915 г., январь, стр. 115–117 (К вопр. об Ант. соб. I, 124–126). К сказанному там можно прибавить:
1) Насколько сильно распространено было в западной
—494—
приморской части Малой Азии арианство, можно судить по тому, что под томосом Св. Александра Александрийского подписались правда отдельные епископы из Асии, Карии, Лидии, но ни одного епископа из Вифинии, где находилась тогда резиденция императора. Кафедру главного города – Ефеса и в Асии занимал лукианист Минофант. Лукианисты занимали все кафедры, прославленные потом вселенскими соборами, исключая Византии-Константинополя. Но Византия была тогда небольшим городом, и об ней едва ли могла идти речь при избрании места собора. Мы не знаем, какие именно епископы Асии, Карии и Лидии подписали τόμος Александра, но во всяком случае это были епископы кафедр или незначительных, или удаленных от Никомидии. Но при выборе места собора необходимо было считаться с желанием Константина, решившего присутствовать на соборе лично. С этой точки зрения, конечно, самым удобным местом собора была бы самая Никомидия. В виду этого можно даже поставить вопрос: Никея не была ли избрана даже прямо вопреки желанию Евсевия Никомидийского? Его друг Феогний Никейский мог представляться менее опасным противником Осию Кордубскому и другим влиятельным сторонникам Св. Александра Александрийского, чем такой «великий» интриган, как Евсевий, и вынужденные искать место для собора в Вифинии, они намеренно обошли Никомидию.
2) При выборе места соборов епископы нередко не считались с догматическим направлением местных епископов. Иногда соборы, судившие епископов за их догматические заблуждения, собирались прямо в тех городах, где эти еретики были епископами. Соборы, судившие Павла Самосатского, епископа Антиохийского, собирались в самой Антиохии. В Антиохии состоялись и собор около 330 года, низложившей Св. Евстафия, и собор 344 года, низложивший Стефана Антиохийского. В 346 году собор, осудивший Евфрату Колонийского, состоялся в самой Colonia Agrippina (Кельне). И Фотин, епископ Сирмийский, низложен был Сирмийским собором 351 года. Было бы поэтому нисколько неудивительно, если бы и в 324–5 г. епископы-антиариане, чувствуя за собою силу, собор для суда над Арием и его покровителями назначили бы даже в самой Никомидии.
—495—
Словом, в выборе Никеи, как места собора, я не вижу доказательства, что Константин Великий был очень недоволен поступком восточных епископов, собравшихся на собор в Антиохии, и постарался парализовать значение этого собора.
Нельзя, конечно, оспаривать, что, когда собрался Никейский собор, то не все решения Антиохийского собора были сдобрены Константином: Евсевий Кесарийский бесспорно допущен был на собор, как полноправный член, равно как, вероятно, и Феодот Лаодикийский и Наркисс Нерониадский. Но позволительно спросить: об отлучении, наложенном на этих трех епископов Антиохийским собором, император не услыхал ли впервые только на самом Никейском соборе? Конечно, ему мог сообщить об этом и раньше Евсевий Никомидийский (если не сам Осий). Но и в таком случае Константин в. не мог увидеть в решениях Антиохийского собора шага, направленного к тому, чтобы свести к нулю задуманный им Анкирский собор. Ведь сами отцы этого Антиохийского собора окончательное решение вопроса о трех отлученных епископах предоставили именно великому собору в Анкире и потому, вероятно, и в Никее не особенно протестовали против того, чтобы отлученные ими епископы заняли места в качестве полноправных членов собора. – Отлучение, наложенное Антиохийским собором, не прошло, однако, совсем бесследно по крайней мере для Евсевия Кесарийского. Его заставили оправдываться на соборе, и приводимое Евсевием в письме к кесарийцам вероизложение прочитано было им на соборе не в качестве проекта символа, а в свое оправдание, и только вмешательство императора придало делу неожиданный оборот1174.
Из сказанного, надеюсь, ясно, что и в данном случае новые документы не стоят ни в каком противоречии со старыми, и те странности, какие Гарнак отчасти, верно, указывает в изложении Швартца, нужно отнести на счет самого Швартца, а не изданных им документов.
Пункту f Гарнак придает чрезвычайно важное значение, видит в нем самое главное, die Hauptsaсhe. «Самый
—496—
важный документ» – пишет он – «касающийся хода Никейского собора есть» известное «письмо Евсевия Кесарийского» к своей пастве. «Согласуется ли это письмо с тем, что можно почерпнуть из мнимо подлинного послания Антиохийского собора? По нему Евсевий прибыл на [Никейский] собор, как отлученный, и, следовательно, был им реабилитирован. Но письмо [Евсевия] совершенно молчит об отлучении и реабилитации. Швартц видит здесь «тонкую иронию» Евсевий рассматривает непризнанное его паствой решение [Антиохийского собора], как несуществующее. «Нельзя сказать – говорит Гарнак – «чтобы это объяснение было удовлетворительно. Почему Евсевий, который вообще не жалеет слов, не возвещает ясно о триумфе своем и своего императора», о том, «что несправедливое и смелое осуждение [его] в Антиохии было отменено решением императорского собора. Вместо того он молчит. Это не только удивительно; это совершенно необъяснимо».
Мне кажется, что Евсевий не имел ни особого повода, ни особого желания вести речь об этом отлучении, наложенном на него Антиохийским собором, в письме к своей пастве. Кесарийцам, конечно, и без того хорошо известен был факт отлучения, наложенного на Евсевия Антиохийским собором, а что на соборе в Никее он присутствовал в качестве полноправного члена, они могли понять из того, что он подписал символ собора с терминами ἐκ τῆς οὐσίας и ὁμοούσιον и анафематизмом на арианские положения. Но самый тон письма Евсевия к кесарийцам доказывает, что в 324 году кесарийская паства была вполне на его стороне, но не одобряла подписи им Никейского символа. Поэтому возвышать с особым триумфом о том, что Никейский собор, по желанию императора, игнорировал отлучение, наложенное на него в Антиохии, для Евсевия было даже не совсем удобно. Подпись Евсевия под символом с подозрительными для него, как левого оригениста, терминами была и для самого Евсевия и для его паствы фактом, в сущности, более печальным, чем отлучение, наложенное на него в 324 году, когда он стойко поддерживал опального Александрийского пресвитера-лупианиста. Не торжествовать приходилось ему теперь, а оправдываться перед своей паствой.
—497—
О положении Евсевия Кесарийского на Никейском соборе у меня сказано достаточно иного в разборе 1-й статьи Гарнак1175, и я с истинным удовольствием прочитал у Швартца, в его ответе Гарнаку страницы, 360–361. Швартц здесь, по моему мнению, совершенно справедливо замечает, что временное отлучение, наложенное на Евсевия Антихийским собором «объясняет тот иначе загадочный факт, что именно Евсевий Кесарийский, который не был вождем ни той, ни другой партий» [ни православной, ни арианской; в данном случае Швартц по моему, не совсем прав: Евсевий несомненно был одним из вождей арианской партии, и это обстоятельство и было причиной его отлучения на Антиохийском соборе] «должен был представить на собор Кесарийский крещальный символ со своим собственным заключением: это сделал он потому, что должен был доказывать свое православие. Новооткрытый документ, следовательно, никоим образом не противоречит тому – очень немногому – что известно было раньше о ходе Никейского собора, но разъясняет важнейшее и документальное сообщение о нем таким удивительным и живым образом, как это никогда невозможно было бы сделать при подлоге».
Но Гарнак не хочет согласиться с этим. По его мнению, из того факта, что Евсевий выступил на соборе с изложением веры, не следует, что он явился на собор, как отлученный. «Конечно, его личное заявление в конце символа о том, что он всегда так веровал, доказывает, что на соборе он должен был защищаться против резких нападок или подозрений; но это должны были делать там первые борцы (Protagonisten) всех партий. О друзьях Ария мы знаем, что и они также составили формулу веры и пришли с ней – конечно без успеха – на помощь своему учителю (Meister). Наоборот, Маркелл Анкирский защищал свою точку зрения против Евсевия и нападал на своих врагов. Много заявлений, подобных тем, какие делает Евсевий, было высказано на соборе; случайно мы знаем заявление Евсевия Кесарийского. Евсевий не на соборе стоял, как осужденный, но он стоял как обвиненный
—498—
перед своей паствой и именно с полным правом (mit Redit). – Что же касается хода собора, то предложение исповедания веры Евсевием не было с его стороны актом самооправдания (Reinigungsakt), а искусной попыткой объединить собор на этой формуле. И попытка эта удалась в существенном». – Символ, предложенный Евсевием, действительно, как показал Хорт, лежит в основе Никейского символа. Следовательно, если мы должны верить антиохийскому посланию, то Евсевий пришел в Никею, как отлученный, и его вынужденное очистительное исповедание (Reinignngsbekenntniss) положено было собором в основу его решающего вероопределения! «Возможно такое mutatio rerum, но оно невероятно! (Möglich ist eine solche mutatio rerum, wahrscheinlich ist es nicht!). Равно как возможно, что Евсевий забыл возвестить об атом исключительном триумфе своей пастве, но невероятно!».
То, конечно, верно, что до 1905 года никому и на мысль не приходило, что Евсевий Кесарийский представлял на Никейском соборе свое вероизложение, как отлученный. Нельзя, однако, оспаривать, что и предисловие, и заключение евсевиева символа не вполне гармонируют с тем обычным предположением, что этот символ был только проектом соборного вероопределения. Только антиохийское послание дает этим предисловию и заключению полный смысл и значение.
Не вижу никакого повода не соглашаться с Хортом-Гарнаком и в том, что именно кесарийский1176 символ, предложенный на соборе Евсевием лежит в основе ни-
—499—
кейского символа.
Об этом говорит сам Евсевий, и нет ни малейших оснований не доверять ему в этом, и редакция никейского символа такова, что он прямо выдает себя, как переделку кесарийского символа.
Но на вопрос: как же случилось такое mutatio rerum, что исповедание веры, представленное Евсевием кесарийским для своего оправдания, положено было в основу соборного вероопределения, ответ дает сам же Евсевий. Ταύτης ὑφ’ ἡμῶν – говорит он – ἐκτεθείσης πίστεως, οὐδεὶς παρῆν ἀντιλογίας τόπος· ἀλλ’ αὐτός τε πρῶτος ὁ θεοφιλέστατος ἡμῶν βασιλεὺς ὀρθότατα περιέχειν αὐτὴν ἐμαρτήρηδεν οὕτω τε ἑαυτὸν φρονεῖν συνωμολόγηται, καὶ ταύτῃ τοὺς πάντας συγκατατίθεσθαι, ὑπογράφειν τε τοῖς δόγμασι, καὶ συμφρονεῖν τούτοις αὐτοῖς παρακελεύετο· ἑνὸς μόνου προσεγγραφέντος ὁήματος τοῦ ὁμοουσίου. Евсевий, следовательно, говорит так ясно, как только это возможно, что в качестве основы соборного вероопределения его символ предложен был самим императором Константином Великим. Он, вероятно, уже в это время обратил свое внимание на ученого епископа кесарийского и на соборе оказывал ему явное покровительство. Конечно, по его настоянию Евсевий, отлученный Антиохийским собором, принят был Никейским собором в качестве члена; и когда его попросили все-таки прочитать на соборе свое вероисповедание, и по прочтении Евсевием его символа никто пока ничего не возразил против него (символ был ведь не арианский, хотя и бесцветный), то Константин и предложил собору подписать это вероисповедание, прибавив к нему слово ὁμοούσιον, как того желали Осий Кордубский и другие западные епископы.
Однако отцы собора далеко не ограничились вставкой в символ одного этого слова (подозрительного и для Евсевия и для всех восточных), но подвергли его такой существенной переделке, что получился на деле совершенно новый символ, и сам Евсевий мог подписать его только подчиняясь необходимости (иначе ему грозила ссылка). И об этой переделке своего символа ясно говорит сам Евсевий: Οἱ δὲ [они же, т. е. партия, противоположная Евсевию, сторонники Св. Александра Александрийского] προφάσει τῆς τοῦ ὁμουσίου προσθήκης, τήν δε τὴν γραφὴν πεποιήκασιν. – Следовательно, Евсевий не только не одержал никакого
—500—
исключительного триумфа на Никейском соборе, но в существе дела вынужден был сдаться на капитуляцию своим догматическим противникам. – Ценой такой сделки с совестью, какую Евсевий допустил летом 325 года, он и с Антиохийского собора в 324 году вернулся бы не как отлученный, а как один из православных членов этого собора. Разница только в том, что 324 году Евсевий, подписав антиохийское вероизложение, только перешел бы из лагеря левых оригенистов в лагерь оригенистов правых (признал бы только вечное рождение Сына), а в 325 году ему пришлось подписать западные богословские термины, отвергнутые самим Оригеном и подозрительные и для правых оригенистов. Значить переход на сторону противников Ария для Евсевия в 324 году был бы легче, чем в 325 году. Но видимо в 324 г. Евсевий еще надеялся, что на великом соборе в Анкире покровители Ария могут взять верх над его противниками; на Никейском соборе он увидел, что дело Ария совершенно безнадежно, и остается думать о самом себе.
Может быть, не излишне привести здесь и один argumentum ad hominem. Та странность, что символ веры, прочитанный на Никейском соборе Евсевием кесарийским для своего оправдания, положен был в основу соборного вероизложения, не более той, какую сам Гарнак предполагает о константинопольском символе 381 года. Этот так называемый теперь никео-цареградский символ, по гипотезе Гарнака, прочитан был на 2-м вселенском соборе Св. Кириллом Иерусалимским для доказательства своего православия и внесен был в акты собора, а впоследствии принять был за символ самого собора и вытеснил в церковном употреблении самый никейский символ. Если эта, предполагаемая Гарнаком, подмена случилась и не на самом Константинопольском соборе 381 года, то за то здесь символ Св. Кирилла приписан был, будто бы, этому собору целиком, без всяких изменений или дополнений; Никейский же собор взял из символа Евсевия только такие выражения, которые с точки зрения спорного догматического вопроса были безразличны, и редактировал его так, что вместо символа нейтрального получился символ строго антиарианский.
—501—
Но если эта ссылка на предполагаемую Гарнаком историю с символом Кирилла Иерусалимского может иметь значение только аргумента ad hominem, в полемике с самим Гарнаком, если в действительности Св. Кирилл не читал в 381 году в Константинополе никакого символа в свое оправдание (в это время его едва ли в чем и обвиняли), и никео-цареградский символ составлен, или редактирован самим II-м Вселенским собором, то мы имеем в истории церкви IV века и еще один случай, аналогичный с тем, какой, как теперь оказывается, вышел в 325 году с символом, прочитанным на Никейском соборе Евсевием Кесарийским.
3-я из 4-х антиохийских формул 341 года прочитана была на Антиохийском соборе ἐν τοῖς ἐγκαινίοις Феофронием епископом Тианским, но подписана всеми отцами собора1177.
Спрашивается: почему понадобилось Антиохийскому собору 341 году это 3-е вероизложение после раньше составленных двух (в том числе авторитетного для восточного «символа Лукиана»), и почему с ним выступил Феофроний, епископ Тианский?
Если припомним, что присутствовавший на Антиохийском соборе 324 года и на Никейском Вселенском соборе 325 года Евпсихий, епископ Тианский, упоминается у Афанасия Великого, ad episcopos Aegypti et Libyae, n. 8 в числе выдающихся поборников православия, «мужей апостольских», то представляется совсем невероятным, чтобы и его преемник Феофроний по доброй воле очутился в рядах евсевиан и был решительным антиникейцем. А предисловие и заключение символа Феофрония прямо говорят за то, что этот символ прочитан был им на соборе в свое оправдание, что его обвиняли в единомыслии с Маркеллом Анкирским, Савеллием и Павлом Самосатским. Οἶδεν ὁ Θεός, – так начинает свое вероизложение Феофроний, – ὃν μάρτυρα καλῶ ἐπὶ τὴν ἐμὴν ψυχήν, ὅτι οὕτως πιστεύω, а в конце его говорит: Εἰ δέ τις παρὰ ταύτην τὴν πίστιν διδάσκει, ἢ ἔχει ἐν ἑαυτῷ, ἀνάθεμα ἔστω· καὶ Μαρκέλλου τοῦ Ἀγκύρας, ἢ Σαβελλίου, ἢ
—502—
ΙΙαύλον τοῦ Σαμοσατέως, ἀνάθεμα ἔστω καὶ αὐτὸς καὶ πάντες οἱ κοινωνοῦντες αὐτῷ. Въ самом символе Феофрония против Маркелла и Савеллия направлены выражения (о Сыне Божием): τὸν γεννηθέντα ἐκ τοῦ Πατρός πρὸ τῶν αἰώνων, Θεὸν τέλειον ἐκ Θεοῦ τελείου, καὶ ὅντα πρὸς τὸν Θεὸν ἐν ὑποστάσει и – специально против Маркелла – καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης καὶ δυνάμεως κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, καὶ μένοντα εἰς τοὺς αἰώνας.
Гарнак говорит, как о факте совершенно бесспорном, что и «друзья Ария» [а разве Евсевий кесарийский был его недругом?] представили на Никейском соборе свое вероизложение, которое, однако, не имело успеха. Справка с DGН 229, 3[=DGН3 224, 1 =Н2 226] показывает, что Гарнак имеет в виду следующие слова Евстафия Антиохийского у Theodoret, h. е. I, 8, 1–2: ὡς δὲ ἐζητεῖτο τῆς πίστεως ὁ τρόπος, ἐναργὴς μὲν ἔλεγχος τὸ γράμμα τῆς Εὐσεβίου προυβάλλετο βλασφημίας· ἐπὶ πάντων δὲ ἀναγνωσθέν, αὐτίκα συμφορὰν μὲν ἀστάθμητον τῆς ἐκτροπῆς ἔνεκα τοῖς αὐτηκόοις προὐξένοι, αἰσχύνην δ’ ἀνήκεστον τῷ γράψαντι παρεῖχεν. «Невозможно» – замечает Гарнак, – «чтобы тут разумелся символ Евсевия кесарийского, потому что «Евсевий «после сообщения своего символа замечает ясно, что он в существенном был принят»1178.
Поэтому Гарнак разделяет обычное мнение, что τὸ γράμμα βλασφημίας представлено было Евсевием Никомидийским.
Вопрос об этом γράμμα решается, однако, не так просто, как кажется Гарнаку. Швартц видит в словах Евстафия только «грубо искаженное изображение сцены, в которой Евсевий Кесарийский предложил свое Credo»1179. И Зеекк1180 находил, что Евстафий скорее имел здесь в виду Евсевия Кесарийского, чем Никомидийского. И это предположение не так-то легко опровергнуть.
В пользу обычного мнения говорят, конечно, дальнейшие
—503—
слова Св. Евстафия (не приводимые Гарнаком в цитованном месте его DG): ἐπειδὴ δὲ τὸ ἐργαστήριον τῶν ἀμφὶ τὸν Εὐσέβιον σαφῶς ἐάλω, τοῦ παρανόμου γράμματος διαρραγέντος ὑπ’ ὄψει πάντων ὁμοῦ, τινές ἐκ συσκευῆς τούνομα προβαλλόμενοι τῆς εἰρήνης, καιεοίγησαν μὲν ἅπαντας τοὺς ἄριστα λέγειν εἰωθότας. Выражение οἱ περὶ или ἀμφὶ τὸν Εὐσέβιον у современников и позднейших историков обыкновенно означает сторонников Евсевия Никомидийского, а не Кесарийского. И, по-видимому, трудно допустить, чтобы символ Евсевия Кесарийского, положенный в основу соборного вероопределения, был разорван, как «беззаконное писание».
Но, с другой стороны, известно, что после Никейского собора Св. Евстафий вел полемику с Евсевием Кесарийским1181, и именно Евсевий кесарийский был главным деятелем собора, низложившего Евстафия. Именно Евсевий кесарийский был, таким образом, личным врагом Св. Евстафия. Можно ли поэтому допустить, чтобы Евстафий, говоря о Никейском соборе, упомянул о παράνομον γράμμα Евсевия Никомидийского и позабыл или не хотел упомянуть о символе, прочитанном на соборе Евсевием Кесарийским? И так ли невероятно, что изображение одной и той же сцены, разыгравшейся на соборе по поводу вероисповедания, прочитанного Евсевием, вышло столь до противоположности различным под пером самого Евсевия и столь открыто нерасположенного к нему, как арианину, Св. Евстафия? Сообщение Св. Евстафия, допуская, что и у него идет речь о γράμμα Евсевия Кесарийского, не стоит в совершенно непримиримом противоречии с рассказом самого Евсевия. Возможно, что символ Евсевия сначала не вызвал резких возражений, многие даже одобрили его, но потом, когда дело дошло до редактирования нового символа на основании символа Евсевия, поднялись прения, и решительные противники ариан, в роде самого Евстафия, нашли, что в целом этот символ есть «богохульство», βλασφημία. «Богохульство» можно было усмотреть, например, в словах (о Боге Отце) τόν τε ἀπάντων (=решительно всего, следовательно, и Сына и Св. Духа) ὀρατῶν τε καὶ ἀοράτων ποιητήν, в отсутствии найме-
—504—
нования Сына Божия истинным Богом, даже в выражении πρωτότοκον πάσης κτίσεως, хотя и взятом из Св. Писания (Кол.1:15), но неправильно прилагаемом к Сыну Божию, как Богу. И в конце концов, когда никейский символ был уже составлен, символ Евсевия мог быть даже и разорван решительными антиарианами. Что Евсевий молчит об этом неприятном для него факте, вполне естественно. И выражение ἀμφὶ τὸν Εὐσέβιον могло быть употреблено Св. Евстафием и о сторонниках Евсевия Кесарийского: ведь говорит же Созомен II 19 об οἱ ἀμφὶ τὸν Εὐσέβιον καὶ Παυλῖνον, τὸν Τύρου ἐπίσκοπον, καὶ Πατρόφιλον τὸν Σκυθοπόλεως, где Евсевий несомненно Кесарийский, а не Никомидийский. Тем не менее вместе с Зеебергом1182 и я более склонен думать, что правильно обычное понимание слов Св. Евстафия: упоминаемое им παράνομον γράμμα принадлежит Евсевию Никомидийскому, а не Кесарийскому. А намек на неособенное приятную для Св. Евстафия историю с символом, прочитанном Евсевием Кесарийским, содержится в словах Евстафия: «некоторые по заговору, выдвинув имя мира, заставили замолчать всех умевших сказать лучшее». Св. Евстафий не говорит прямо о символе Евсевия Кесарийского и ограничивается намеком на него именно потому, что для него неприятно было и то, что Евсевию удалось оправдаться, и получилось, что как будто Антиохийский собор 324 года несправедливо подверг его отлучению, 2) то, что прочитанный Евсевием символ лег в основу соборного вероизложения, как будто между умевшими говорить наилучшим образом, между истинно православными епископами, не было никого, кто мог бы составить символ и совершенно независимо от символа, прочитанного бывшим покровителем Ария.
Но кто также были те некоторые, τινές, которые заставили замолчать умевших сказать лучшее? В.В. Болотов, не доживший до открытия антиохийского послания и потому видавший вслед за другими в символе Евсевия Кесарийского только проект соборного вероопределения, предполагал в этих τινές никого иного, как Евсевия Кесарийского1183.
—505—
Напротив, Э. Зееберг видит в этих τινές не Евсевия, а православных, по всей вероятности стоявших близко к императору, епископов. Συσκευή, по его мнению, заключена была между этими православными вождями и императором. Вот как он аргументирует1184 свое мнение: «Спрашивается – кто разумеется под τινές. Естественно, думают прежде всего об Евсевии Кесарийском и стоящих за ним лицах (und etwa seine Hintermӓnner). Но против этого стоят известные трудности. Ведь эти τινές действовали ἐκ συσκευῆς. А это – вместе с κατεσίγησαν – предполагает, что условие (Verabredung) заключено было также и с православными. Только они имели возможность успокоить своих единомышленников (ihre Parteigenossen zur Ruhe zu verweisen). Евсевий Кесарийский не мог этого сделать (hätte das gar nicht gekonnt). Что могло воспрепятствовать православным (die Orthodoxie) выступить против его исповедания? Именно только συσκευή, по которой они сами наложили на себя молчание. К тому же вмешательство этих τινές характеризуется как последовавшее ради мира. Поэтому здесь нельзя видеть указания на принудительное давление, которое произведено было на противниковъ православныхъ (Deshalb kann hier nicht auf den zwingenden Druck, der auf die Gegner der Orthodoxen ausgeiibt worden ist, abgezielt werden). Если спрашивают, почему православные молчали, то – верно, если указывают на исповедание епископа Кесарийского. Но не он сам, а православные причинили это молчание. Объект этого замечания Евстафия есть исповедание Евсевия Кесарийского; его субъекты те православные, которые побудили замолчать выдающихся ораторов». «Но συσκευή предполагает две стороны (zwei Теіle). Одна состоит, как мы видели, из православных вождей; относительно другой нужно думать об императоре. Ведь, он играл решающую
—506—
роль при исповедании Евсевия Кесарийского. Сам епископ Кесарийский не может здесь разуметься. Все его поведение доказывает, что он был удивлен словом ὁμοούσιος (durch das ὁμοούσιος überrascht), тогда как православные приняли это равнодушно, как и его исповедание».
«Под τινές, которые κατεσίγησάν besorgten, нужно во всяком случае разуметь людей из православного лагеря; вероятно, нужно думать об епископах, стоявших близко к императору. Следовательно, некоторые члены православной партии по уговору, который Евстафий порицая называет συσκευή, побудили своих единомышленников под Предлогом мира, во время известного происшествия молчать, и именно таким образом, что они вообще не имели случая выступить со своим мнением. Под этим можно разуметь только исповедание Евсевия Кесарийского, и специально то обстоятельство, что оно было возведено в [соборное] вероопределение [und zwar speciell der Umstand, dass es zum Glanbensdekret erhoben worden ist]».
«Этот результат подтверждается хронологическим расчленением заметки Евстафия. Ибо за «противозаконным писанием» Евсевия Никомидийского следует в ней молчание православной партии, которое может относиться только к неназванному ясно, но в действительности лежащему между тем и другим» [zwischen diesen beiden, т. е. между писанием Евсевия и молчанием православных] «исповеданию Евсевия Кесарийского. Только после этого Евстафий упоминает о характеристичном согласии ариан на [подпись] никейского [символа, die charaktervolle Zustimmung der Arianer zuin Nicanum]1185, который сам вообще не назван прямо, но именно поэтому должен был быть предметом молчания православных. Но так как далее в исповедании Евсевия не содержалось ереси, то умолчание (das Versturainen) не может означать, что православные «проглядели» в нем ереси (kann das Versturonien nicht ein Ubersehen von Häresien bedeuten); но – к чему тон и смысл заметки Евстафия
—507—
сами по себе приводят – православные не делали вообще никаких предложений и допустили (duldeten), что по своему содержанию не подозрительное, но подверженное возражениям (anfechtbare) из-за личности автора оправдательное исповедание Евсевия было возведено в основу соборного вероопределения».
Как ни обстоятельна, по-видимому, аргументация Зееберга, едва ли можно согласиться с ним, что Св. Евстафий под τινές, заставившими, по заговору, замолчать умевших говорить лучшее, разуметь вождей православия, стоявших близко к императору. Зееберг не называет по имени ни одного из этих близких к императору православных епископов. Но очень хорошо известно, что самым близким к Константину епископом в то время был Осий Кордубский. И если кто из православных, то прежде всего он должен был принять участие в заговоре, одной стороной которого был Константин Великий. Некоторую близость к Константину можно предполагать относительно Александра Фессалоникийского и, может быть, некоторых других западных епископов. Из православных епископов востока едва ли кто был особенно близок к императору. Но можно ли допустить, чтобы Св. Евстафий стал обвинять в συσκευή Осия Кордубского и других православных епископов запада? Не сам ли Евстафий, по примеру Св. Александра Александрийского от лица созванного им Антиохийского собора обратился с посланиями к Св. Сильвестру Римскому и Александру Фессалоникийскому, имея очевидно в виду привлечь и этих митрополитов запада к борьбе с арианством? И не Осию ли Кордубскому православные обязаны были тем, что император решительно стал на их сторону, и дело на Никейском соборе приняло столь неблагоприятный для ариан оборот? Осий был, может быть, даже участником и созванного Евстафием Антиохийского собора 324 года и после Никейского собора до самого своего падения в 357 г. действовал как решительный поборник православия, твердый защитник гонимых евсевианами восточных никейцев и свою верность Никейскому символу запечатлел исповедничеством. Нужно считать, конечно, высоко вероятным, что Константин Великий предложил внести в Никейский символ термин ὁμοούσιος по внушению Осия. Но можно
—508—
ли допустить, чтобы Осий еще заранее, до прочтения Евсевием Кесарийским своего символа, сговорился с императором внести это слово именно в символ Евсевия и не дал возможности говорить другим поборникам православия? Или Св. Евстафий, как епископ восточный, недоволен был даже самым Никейским символом, его терминами ἐκ τῆς οὐσίας и ὁμοούσιον, и желал бы, чтобы соборное вероизложение составлено было в более приемлемых для восточных богословов выражениях? Антиохийское вероизложение, действительно, не содержит никейских терминов. Но о св. Евстафий, мы знаем, что после 325 года он вел полемику с Евсевием Кесарийским именно из-за Никейского символа, обвинял Евсевия в том, что он извращает никейскую веру, и около 330–332 г. был низложен евсевианами, по обвинению, между прочим, и в савеллианстве, т. е. как поборник никейской веры.
По моему крайнему разумению, уже сам тон, в каком говорит Св. Евстафий об этих τινές, препятствует видеть в них вождей православия. Что это и не явные «ариоманиты», доказывает контекст. Но это не мешает видеть в них ариан скрытых, или же – вероятнее – тех нерешительных епископов, которые не придавали особенно важного значения спорному догматическому вопросу, поднятому в Александрии и волновавшему весь восток, и ни к чему так не стремились, как только к тому, чтобы прекратились богословские споры, и водворился мир в церкви. Среди этих нерешительных епископов могли быть и друзья, и почитатели ученого епископа Кесарии палестинской. На соборе они не составляли, как принято было думать раньше, особой сплоченной «средней партии», потому что не имели ни признанного вождя, ни определенных догматических убеждений. Но в решительную минуту они, по-видимому, сыграли довольно важную роль на никейском соборе. Евсевия кесарийского заставили прочитать исповедание веры для своего оправдания. Прочитанный им символ получил неожиданно одобрение со стороны императора; предложившего внести одно только слово ὁμοούσιος. Для вождей православия был повод возражать против этого одобрения, высказанного символу, прочитанному подозреваемым в неправославии, отлученным епископом, и выступить со своими
—509—
проектами вероопределения. Но их заставили замолчать. И, по-видимому, заставил не император, а те нерешительные, которым, как и Константину, символ Евсевия показался достаточно хорошим, вполне способным водворить мир в церкви. Эти нерешительные поспешили заявить, что и они веруют согласно с кесарийским символом, и вожди православия, увидев, что император не одинок в своем отношении к этому символу, постарались только редактировать его так, чтобы он действительно был символом противоарианским и не оставил арианам никакой лазейки.
Можно допустить также, что лица, участвовавшие в συσκευή, уже заранее знали, что Евсевия кесарийского заставят прочитать исповедание веры, и они заранее решили высказать этому исповеданию свое одобрение и, может быть, даже повлияли в этом смысле каким-нибудь путем и на самого императора.
«Другой стороной в этой συσκευὴ мог быть и не император, а, например, сам Евсевий Кесарийский; или же и никакой «другой стороны» не было, а заговор заключен был между известной группой епископов.
Из дальнейших слов Св. Евстафия видно, что главной причиной его недовольства ходом дел на Никейском соборе были дальнейшие события: «ариоманиты», увидев, что им угрожает лишение кафедр, поспешили подписать отвергаемый ими догмат, удержали свои, видные кафедры и после собора начали свои интриги против поборников православия1186. В какой связи эти дальнейшие события стоят с самой историей составления Никейского символа, не вполне ясно. Но едва ли Евстафий недоволен был, как думает Зееберг, только тем, что в основу символа положен был символ, прочитанный отлученным Евсевием. Скорее можно допустить, что Евстафий не вполне удовлетворен был
—510—
самим символом. Как ни неприятны были арианам такие выражения, как γεννηθέντος – ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ Πατρός и ὁμοούσιον τῷ Πατρί, они все-таки, как доказывает письмо Евсевия Кесарийского к своей пастве, ухитрялись перетолковывать их в приемлемом для них смысле. Может быть Св. Евстафий желал такого вероизложения, которое не допускало бы никаких перетолкований, и подпись под которым для покровителей Ария была бы невозможна без открытого отречения от ранее высказываемых ими взглядов. Но вероятнее, что Св. Евстафий недоволен был не самим символом, а тем обстоятельством, что покровителям Ария дана была возможность так легко отделаться, что собор не вошел в обсуждение их прежней деятельности в пользу Ария, и, неискренно подписавшись под символом, они остались на своих кафедрах. Хорошо понимавший цену этим подписям, Св. Евстафий, вероятно, желал бы, чтобы оба Евсевия cum sociis уличены были на соборе в арианстве и лишены своих кафедр, или, если и оставлены на них, то после открытого признания в своих раннейших заблуждениях.
Но если упоминаемое Св. Евстафием παράνομον γράμμα принадлежало, и по моему мнению, Евсевию Никомидийскому, а не Кесарийскому, то еще вопрос: представляло ли это γράμμα проект вероопределения, предложенный самим Евсевием Никомидийским? Не было ли это просто одно из раннейших сочинений Евсевия, представленное на соборе кем-либо из его противников в доказательство его неправославия? – Да если это был и символ, то и его Евсевий Никомидийский мог прочитать, как и Евсевий Кесарийский, в свое оправдание. Ведь, хотя Евсевий Никомидийский и не был отлучен ни одним собором, но он был хорошо известен сторонникам Св. Александра Александрийского, как виднейший покровитель Ария, и, когда выяснилось, что большинство собора решительно против Ария, от Евсевия и могли потребовать исповедания веры.
Что касается ссылки Гарнака на образ действий на Ни-
—511—
кейском соборе Маркелла Анкирского, то в словах Маркелла (в послании к Юлию Римскому у Epiph. haer. 72, 2), которые он, кажется, имеет в виду, другие ученые1187 видят указание на раннейшее осуждение Евсевия Кесарийского, и, следовательно, аргумент за подлинность спорного послания Антиохийского собора 324 года. А, с другой стороны: в приведенных словах Маркелла (равно как и в передаче их у Гарнака) нет никакого указания на то, что и Маркелл представлял на соборе свое исповедание веры. Поэтому цель ссылки на них у Гарнакка для меня совершенно непонятна.
Далее Гарнак выдвигает argumentum а silentio. О том, что Евсевий Кесарийский явился на собор, как отлученный, молчит не только сам Евсевий, но и его решительный противник Афанасий, который не забывает даже в своей апологии против ариан (п. 8) привести слух, что Евсевий приносил жертву во время гонения. – Швартц говорит: «он (Афанасий Великий) имел на то свои основания», но можно ли успокоиться на этом выходе из затруднения?1188 Шварц сам видит, что это объяснение не подходит (dass das nicht wohl angeht), и думает объяснить молчание Афанасия желанием не затрагивать памяти Константина Великого. Но и это объяснение несостоятельно1189; ибо отлучение Евсевия более, чем 50-ю епископами имело значение само по себе (war eine Tatsache fur sich), и реабилитация его императором ничего не изменила в этом факте, ибо Евсевий, по суждению Афанасия и всякого понимающего дело, в Никее скрыл свое истинное мнение. Следовательно, император был достаточно оправдан (entlastet). Насколько Афанасий заботился, чтобы показать Евсевия в самом дурном свете, видно особенно ясно (geht schlagend) из того факта, что он не стыдится повторить слух, что Евсевий принес жертву во время гонения. Почему же он не рассказывал тогда, что он был отлучен? Почему он пишет, например, (Ароl. с. аr. 6), что группа Евсевия Никомидийского через отлучение Ария (Александром александрийским) сама оказалась отлученной, selbst als excommunizierte vоrkаm [в подлиннике в действительности стоит ἑαυτοὺς ἐκβεβλῆσθαι νομίζοντες – считая себя отлученными вместе с Арием] «но не прибавляет,
—512—
что вскоре после того трое из них – в числе их знаменитый кесарийский епископ – действительно были отлучены? Почему изображает он (De decret. Nicaen. syn. 3) Евсевия на Никейском соборе, сообщает о его колебании в отношении к православным боевым словам (Stichworte), рассказывает о его письме, но молчит о факте, что он стоял на соборе как обвиненный? Нельзя иначе думать: Афанасий не знал об отлучении Евсевия в Антиохии; следовательно, его и не было». В этой аргументации довольно комично то, что знаменитый ученый как будто не замечает, что его цитаты из «апологии против ариан» Афанасия Великого относятся собственно к приводимому в ней посланию Александрийского собора 339 года: «Ἠδυνάμεθα μὲν ἀγαπητοὶ ἀδελφοί» (nn. 3–19) и, следовательно, едва ли принадлежат самому Афанасию Великому. А из египетских епископов никто на Антиохийском соборе 324 года не присутствовал, а на соборе Никейском дело могло быть по желанию императора поставлено так, что епископы, не участвовавшие на антиохийском соборе и не получившие от него послания, просто даже и не услышали об отлучении, наложенном этим собором на трех епископов.
Свящ. Д. Лебедев
